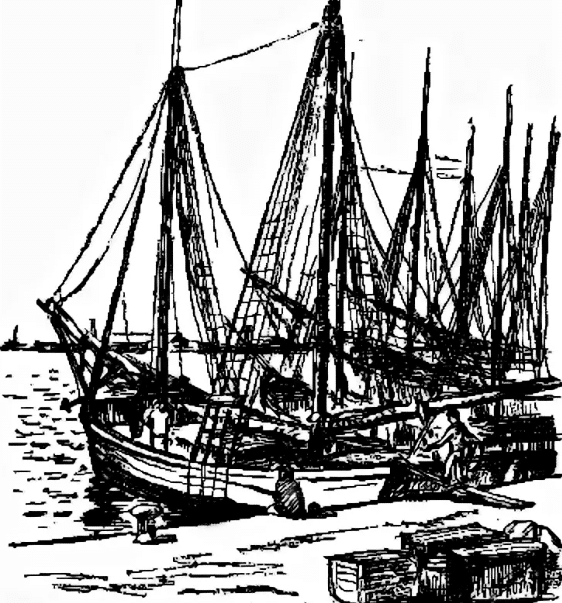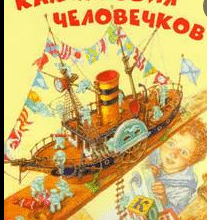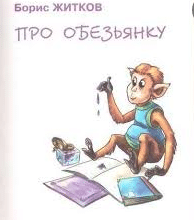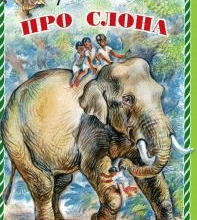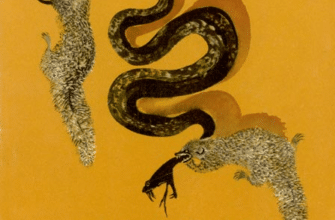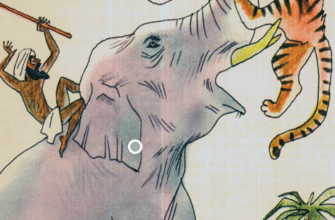Новые штаны
Это хуже всего — новые штаны. Не ходишь, а штаны носишь: все время
смотри, чтоб не капнуло или еще там что-нибудь. Зовут играть — бойся. Из
дому выходишь — разговоров этих! И еще мать выбежит и вслед кричит на всю
лестницу: «Порвешь — лучше домой не возвращайся!» Стыдно прямо. Да не надо
мне этих штанов ваших! Из-за них вот все и вышло.
Старая фуражка
Фуражка была прошлогодняя. Немного мала, правда. Я пошел в порт,
последний уж раз: завтра ученье начиналось. Все время аккуратно, между
подвод прямо змеей, чтоб не запачкаться, не садился нигде, — все это из-за
штанов проклятых. Пришел, где парусники стоят, дубки. Хорошо: солнце, смолой
пахнет, водой, ветер с берега веселый такой. Я смотрел, как на судне двое
возились, спешили, и держался за фуражку. Потом как-то зазевался, и с меня
фуражку сдуло в море.
На дубке
Тут один старик сидел на пристани и ловил скумбрию. Я стал кричать:
«Фуражка, фуражка!» Он увидал, подцепил удилищем, стал подымать, а она
вот-вот свалится, он и стряхнул ее на дубок. За фуражкой можно ведь пойти на
дубок? Я и рад был пойти на судно. Никогда не ходил, боялся, что заругают.
С берега на корму узенькая сходня, и страшновато идти, а я так,
поскорей.
Я стал нарочно фуражку искать, чтоб походить по дубку, очень приятно на
судне. Пришлось все-таки найти, и я стал фуражку выжимать, а она чуть
намокла. А эти, что работали, и внимания не обратили. И без фуражки можно
было войти. Я стал смотреть, как бородатый мазал дегтем на носу машину,
которой якорь подымают.
С этого и началось
Вдруг бородатый перешел с кисточкой на другую сторону мазать. Увидал
меня да как крикнет: «Подай ведерко! Что, у меня десять рук, что ли? Стоит,
тетеря!» Я увидал ведерко со смолой и поставил около него. А он опять: «Что,
у тебя руки отсохнут — подержать минуту не можешь!» Я стал держать. И очень
рад был, что не выгнали. А он очень спешил и мазал наотмашь, как зря, так
что кругом деготь брызгал, черный такой, густой. Что ж мне, бросать, что ли,
ведерко было? Смотрю, он мне на брюки капнул раз, а потом капнул сразу
много. Все пропало: брюки серые были.
Что же теперь делать?
Я стал думать: может быть, как-нибудь отчистить можно? А в это время
как раз бородатый крикнул: «А ну, Гришка, сюда, живо!» Матрос подбежал
помогать, а меня оттолкнул, я так и сел на палубу, карманом за что-то
зацепился и порвал. И из ведерка тоже попало. Теперь совсем конец.
Посмотрел: старик спокойно рыбу ловит, — стоял бы я там, ничего б и не было.
Уж все равно
А они на судне очень торопились, работали, ругались и на меня не
глядели. Я и думать боялся, как теперь домой идти, и стал им помогать изо
всех сил: «Буду их держаться» — и уж ничего не жалел. Скоро стал, как черт:
весь перемазался, и рожу тоже. Этот, с бородой, был хозяин; Опанас его
зовут.
Пришел третий
Я все Опанасу помогал: то держал, то приносил, и все делал со всех ног,
кубарем. Скоро пришел третий, совсем молодой, с мешком, харчи принес и
сдачи. Стали паруса готовить, а у меня сердце екнуло: выбросят на берег и
мне теперь некуда идти. И я стал как сумасшедший.
Стали сниматься
А они уж все приготовили, и я жду, сейчас скажут: «А ну, ступай!» И
боюсь глядеть на них. Вдруг Опанас говорит: «Ну, мы снимаемся, иди на
берег». У меня ноги сразу заслабли. Что ж теперь будет? Пропал я. Сам не
знаю, как это снял фуражку, подбежал к нему: «Дядя Опанас, — говорю, — дядя
Опанас, я с вами пойду, мне некуда идти, я все буду делать». А он: «Потом
отвечай за тебя». А я скорей стал говорить: «Ни отца у меня, ни матери, куда
мне идти?» Божусь, что никого у меня, все вру: папа у меня — почтальон. А он
стоит, какую-то снасть держит и глядит не на меня, а что Григорий делает.
Сердито так.
Так и остался я
Как гаркнет: «Отдавай кормовые!» Я слыхал, как сходню убирают, а сам
все лопочу: «Я все буду делать, в воду полезу, куда хотите, посылайте». А
Опанас как будто не слышит. Потом все стали якорь подымать машиной: как
будто воду качают на носу этой самой машиной — брашпилем. Я старался изо
всех сил и ни о чем не думал, только чтоб скорей отойти, только чтоб не
выкинули.
Сказали — борщ варить
Потом паруса стали ставить, я все вертелся и на берег не глядел, а
когда глянул — мы уже идем, плавно, незаметно, и до берега далеко — не
доплыть, особенно если в одежде. У меня мутно внутри стало, даже затошнило,
как вспомнил, что я сделал. А Григорий подходит и так по-хорошему говорит:
«А ты теперь поди в камбуз, борщ вари; там и дрова». И дал мне спички.
Какой такой камбуз?
Мне стыдно было спросить, что это — камбуз. Я вижу: у борта стоит
будочка, а из нее труба вроде самоварной. Я вошел, там плитка маленькая.
Нашел дрова и стал разводить. Раздуваю, а сам думаю: что же это я делаю? А
уж знаю, что все кончено. И стало страшно.
Ничего уж не поделаешь…
Ничего, думаю, надо пока что борщ варить. Григорий заходил от плиты
закуривать и говорил, когда что не так. И все приговаривает: «Да ты не
бойся, чего ты трусишь? Борщ хороший выйдет». А я совсем не от борща. Стало
качать. Я выглянул из камбуза — уж одно море кругом. Дубок наш прилег на
один борт и так и пишет вперед. Я увидал, что теперь ничего не поделаешь.
Мне стало совсем все равно, и вдруг я успокоился.
Поужинали и спать
Ужинали в каюте, в носу, в кубрике. Мне хорошо было, совсем как матрос:
сверху не потолок, а палуба, и балки толстые — бимсы, от лампочки закопчены.
И сижу с матросами. А как вспомню про дом, и мамка и отец такими маленькими
кажутся, где-то шевелятся. Все равно: и я теперь ничего не могу сделать, и
мне ничего не могут. Григорий говорит: «Ты, хлопчик, наморился, спать
лягай», — и показал койку.
Как в ящике
В кубрике тесно, койка, как ящик, только что без крышки. Я лег в тряпье
какое-то. А как прилег, слышу: у самого борта вода плещет чуть не в самое
ухо. Кажется, сейчас зальет. Все боялся сначала — вот-вот брызнет. Особенно
когда с шумом, с раскатом даст в борт. А потом привык, даже уютней стало: ты
там плещи не плещи, а мне тепло и сухо. Не заметил, как заснул.
Вот когда началось-то!
Проснулся — темно, как в бочке. Сразу не понял, где это я. Наверху по
палубе топочут каблучищами, орут, и зыбью так и бьет; слышу, как уже поверху
вода ходит. А внутри все судно трещит, кряхтит на все голоса. А вдруг тонем?
И показалось, что изо всех щелей сейчас вода хлынет, сейчас, сию минуту. Я
вскочил, не знаю, куда бежать, обо все стукаюсь, в потемках нащупал лесенку
и выскочил наверх.
Пять саженей
Совсем ночь, моря не видно, а только из-под самого борта зыбь
бросается, как оскаленная, на палубу, а палуба из-под ног уходит, и погода
ревет, воет со злостью, будто зуб у ней болит. Я схватился за брашпиль, чтоб
устоять, а тут всего окатило. Слышу, Григорий кричит: «Пять саженей, давай
поворот. Клади руля! На косу идем!» Дубок толчет, подбивает, шлепает со всех
сторон, как оплеухами, а он не знает, как и повернуться, — и мне кажется,
что мы на месте стоим и еще немного, и нас забьет эта зыбь.
Поворот
Пусть куда-нибудь поворот, все равно, только здесь нельзя. И я стал
орать: «Поворот, поворот! Пожалуйста, дяденьки, миленькие, поворот!» Моего
голоса за погодой и не слыхать. А Опанас охрип, орет с кормы: «Куда, к
чертям, поворот, еще этим ветром пройдем!» Еле через ветер его слышно.
Григорий побежал к нему. А я стою, держусь, весь мокрый, ничего уже не
понимаю и только шепчу: «Поворот, поворот, ой, поворот!»
Сели
Думаю: «Григорий, Гришенька, скажи ему, чтоб поворот». И так я Григория
сразу залюбил. Как он борщ-то мне помогал! Слышу обрывками, как они на корме
у руля ругаются. Я хотел тоже побежать просить, чтоб поворот. Не дошел — так
зыбью ударило, что хватился за какой-то канат, вцепился и боюсь двинуться.
Не знаю уже, где паруса, где море и где дубок кончается. Слышу, Григорий
кричит, ревет прямо: «Не видишь, толчея какая, на мель идем!» И вдруг как
тряханет все судно, что-то затрещало, — я с ног слетел. На корме закричали,
Григорий затопал по палубе. Тут еще раз ударило об дно, и дубок наклонился.
Я подумал: теперь пропали.
Стало светать
Григорий кричит: «Было б до свету в море продержаться! Вперлись в
Джарылгач в самый. Еще растолчет нас тут до утра!» А тут опять дубок наш
приподняло, стукнуло об дно; он так весь и затрепетал, как птица. А зыбь все
ходит и через палубу. Я все ждал, когда тонуть начнем. А тут Григорий на
меня споткнулся, поднял на ноги и говорит: «Иди в кубрик; не бойся: мы под
самым берегом». Я сразу перестал бояться. И тут заметил, что стало светать.
Второй Джарылгацкий знак
Я залез в кубрик. Пощупал — сухо. Судно не качало, а оно только
вздрагивало, как даст сильно зыбью в борт, — как будто раненое и умирает. Я
вспомнил про дом: черт бы с ними, с брюками, головы бы не сняли, а теперь
вот что. А наверху, слышу, кричат: «Я ж тебе говорил — под второй
Джарылгацкий и выйдем». Я забился в койку и решил, что буду так сидеть,
пусть будет что будет. Что-нибудь же будет?
Берег
А наверху погода ревет, и каблуки топают. Слышу, по трапу спускаются, и
Григорий кричит: «Эй, хлопчик, как тебя? Воды нема в кубрике?» Я думал — ему
пить, и стал руками шарить. А он где-то впереди открыл пол и, слышу, щупает.
Я опять испугался: значит, течь может быть. Григорий говорит: «Сухо». Я
выглянул из койки в люк; мутный свет видно, и как будто все сразу спокойней
стало: это от свету. Я выскочил за Григорием на палубу. Море желтое и все в
белой пене. Небо наглухо серое. А за кормой еле виден берег — тонкой
полоской, и там торчит высокий столб.
Вывернуться!
Ветром обдувало, я весь мокрый, и у меня зуб на зуб не попадал. Опанас
тычет Григорию: «Если бы за знак закрепить да взять конец на тягу,
вывернулись бы и пошли». А Григорий ему: «Шлюпку перекинет, вон какие зыба
под берегом лопаются, плыть надо». Опанас злой стоит, и ему ветром бороду
треплет, страшный такой. Посмотрел на меня зверем: «Вот оно, кричал тогда,
дурак: «В воду, я хоть в воду», — вот все через тебя. Лезь вот теперь за
борт!» Мне так захотелось на берег, и так страшно Опанаса стало, что я
сказал: «Я и поплыву, я ничего». Он не слыхал за ветром и заорал на меня:
«Ты что еще там?» У меня зубы трясутся, а я все-таки крикнул: «Я на
берег»…
С борта
Опанас кричит: «Плыви, плыви! Возьмешь не знай кого, через тебя все и
вышло. Полезай!» Григорий говорит: «Не надо, чтоб мальчик. Я поплыву». А
Опанас: «Пусть он, он!» — и прямо зверем: «Звал тебя кто, черта лохматого!
Пропадем с тобой, все равно за борт выкину!» Григорий ругался с ним, а я
кричу: «Поплыву, сейчас поплыву». Григорий достал доску, привязал меня за
грудь к доске. И говорит мне в ухо: «Тебя зыбью аккурат на Джарылгач
вынесет, ты спокойно, не теряй силы». Потом набрал целый моток тонкой
веревки. «Вот, — говорит, — на этой веревке пускать тебя буду. Будет плохо,
назад вытяну. Ты не дрефь! А доплывешь, тяни за эту веревку, мы на ней канат
подадим, закрепи за столб, за знак этот, а вывернемся, сойдем с мели, ты
канат отвяжи скорей, отдай, сам хватайся за него, мы тебя на нем к себе на
судно и вытянем». Мне так хотелось на берег, казалось, совсем близко, я на
воду и не глядел, только на песок, где знак этот торчал. Я полез на борт. А
Гришка спрашивает: «Как звать?» А я и не знаю, как сказать, и, как в
училище, говорю: «Хряпов», а потом уже сказал, что Митькой. «Ну, — говорит
Григорий, — вались, Хряп! счастливо».
На доске
Я бросился с борта и поплыл. Зыбь сзади накатом, в затылок мне, и
вперед так и гонит; я только на берег и смотрю. А берег низкий, один песок.
Как зыбью подымет, так под сердце и подкатывает, а я все глаз с берега не
свожу. Как стал подплывать, вижу: ревет прибой под берегом, рычит, копает
песок, все в пене. Закрутит, думаю, и убьет, прямо о песок головой. И вот
все ближе, ближе…
Зыбь лопается
Вдруг чувствую, понесло-понесло меня на гребешке, высоко, как на руках,
подняло, и сердце упало: сейчас зыбь лопнет, как трахнет об песок! Не буду
живой! А тут веревка моя вдруг натянулась, и зыбь вперед пошла и без меня
лопнула. И так пошло каждый раз — я догадался, что это Григорий с судна
веревкой правит. Я уж песок под ногами стал чувствовать, хотел бежать, но
сзади как заревет зыбь, нагнала, повалила, завертела, я песку наглотался, но
на доске снова выплыл.
За знак
Наконец я выкарабкался. Глянул на судно: стоит и парусами на зыби
колышет, как птица подстреленная. А я так рад был, что на земле, и мне все
казалось, что еще качает, что земля подо мной ходит. Я отвязался от доски и
стал тянуть веревку. Знак как раз тут же был: громадный столб с укосинами, и
наверху что-то наворочено вроде бочки. Я взял веревку на плечи и пошел. Ноги
в песке вязнут, и во рту песок, и в глаза набило, и низом метет песком. Еле
веревку вытащил… Смотрю, уж кончилась тонкая веревка, и канат пошел
толстый. Я его запутал, как умел, за знак, под самый корень, и лег на песок
— весь дух из меня вон, пока я тянул.
Вывернулись
Знак дрогнул. Вижу — натянулся канат; я привстал. Судно повернулось,
оттуда стали мне махать. Я встал и начал отпутывать канат, — здорово
затянуло. Судно пошло, канат ушел в воду, потянулась и веревка, как живая
змейка, так и убегает в море.
Берег или море?
Я видел, как Григорий с борта махал мне рукой, — хватайся, вытащим на
веревке, — я не знал: тут остаться или к Опанасу и в море. Оглянулся — сзади
пустой песок, а все-таки земля. Я думал, а веревка змейкой убегала и
убегала. Вот доска дернулась и поползла. Сейчас уйдет! Я подумал: остаться,
и все-таки бросился за доской в воду. Но тут зыбь ударила, я назад, а доска
ушла.
Один
Я видел, как доска скакала по зыби к судну, а судно уходило в море. Вот
тут я схватился, что я один, и я побежал прямо прочь от берега по песку. А
вдруг тут совсем никого нет и ни до кого не дойти? Я опять оглянулся — судно
было совсем далеко, только паруса видно. Лежал бы теперь в койке и приехал
бы куда-нибудь.
Стадо
А вдали я увидел, будто стадо. Пошел туда — ну, вот, люди, пастухи там
должны быть. Боялся только, что собаки выскочат. Я перестал бежать, но шел
со всех сил. Волочу ноги по песку. Когда стал подходить, вижу — это
верблюды. Я совсем близко подошел — ни одной собаки нет. И людей тоже.
Верблюды
Верблюды стояли как вкопанные, как ненастоящие. Я боялся идти в
середину стада и пошел вокруг. А они как каменные. Мне стало казаться, что
они неживые и что этот Джарылгач, куда я попал, заколдованный, и стало
страшно. Я так их стал бояться, что думал: вот-вот какой-нибудь обернется,
ухмыльнется и скажет: «А я…» Ух!.. Я отошел и сел на песок. Какие-то
торчки растут там вроде камыша, и несет ветер песок, и песок звенит о камыш
— звонко и тоненько.
А я один. И наметает, наметает мне на ноги песку. Мои брюки не узнать
стало. И показалось мне, что меня заметает на этом Джарылгаче, и такое
полезло в голову, что я вскочил и опять к верблюдам.
Избушка
Я подошел, встал против одного верблюда. Он стоял, как каменный. Я
вдруг стал кричать; что попало кричал во всю глотку. Вдруг он как шагнет ко
мне! Мне так страшно стало, что я повернулся и бежать. Бежать со всех ног!
Смейтесь, вам хорошо, а вот когда один… все может быть. Я не оглядывался
на верблюдов, а все бежал и бежал, пока сил хватило. И показалось мне, что
нет выхода из этих песков, а верблюды здесь для страху. И тут я увидел вдали
избушку. Весь страх пропал, и я пустился туда, к избе. Иду, спотыкаюсь,
вязну в песке, но сразу весело стало.
Мертвое царство
В избушке ставни были закрыты, а за плетнем во дворе навес. И опять нет
собаки, и тихо-тихо. Только слышно, как песок о плетень шуршит. Я тихонько
постучал в ставни. Никого. Обошел избушку — никого. Да что это? Кажется мне
или в самом деле? И опять в меня страх вошел. Я боялся сильно стучать, — а
вдруг кто-нибудь выскочит, неизвестный какой-нибудь. Пока я стучал да ходил,
я не заметил, что со всех сторон идут верблюды к избушке, не спеша, шаг за
шагом, как заводные, и опять мне показалось, что ненастоящие.
В яслях
Я стал скорей перелезать через плетень во двор, ноги от страху ослабли,
трясутся; перебежал двор, под навес. Смотрю — ясли, и в них сено. Настоящее
сено. Я залез в ясли и закопался в сено, чтоб ничего не видеть. Так лежал и
не дышал. Долго лежал, пока не заснул.
Ведро
Просыпаюсь — ночь, темно, а на дворе полосой свет. Я прямо затрясся.
Вижу, дверь в избушку открыта, а из нее свет. Вдруг слышу, кто-то идет по
двору и на ведро споткнулся, и бабий, настоящий бабий голос кричит:
«Угораздило тебя сослепу ведро по дороге кинуть, я-то его ищу!»
Домовой
Она подняла ведро и пошла. Потом слышу, как из колодца воду достает.
Как пошла мимо меня, я и пискнул: «Тетенька!» Она и ведро упустила. Бегом к
двери. Потом вижу, старый выходит на порог: «Что ты, — говорит, — пустое
болтаешь, какой может быть домовой! Давно вся нечисть на свете перевелась».
А баба кричит: «Запирай двери, я не хочу!» Я испугался, что они уйдут, и
крикнул: «Дедушка, это я, я!» Старик метнулся к двери, принес через минуту
фонарь. Я вижу — фонарь так в руках и ходит.
Что оно такое — Джарылгач?
Он долго подходить боялся и не верил, что я не домовой. И говорит:
«Коли ты не нечистая сила, скажи, как твое имя крещеное».
«Митька, — кричу, — Митька я, Хряпов, я с судна!» Тут он только поверил
и помог мне вылезть, а баба фонарь держала. Тут стали они меня жалеть, чай
поставили, печку камышом затопили. Я им рассказал про себя. А они мне
сказали, что это остров Джарылгач, что здесь никто не живет, а верблюдов
помещицких сюда пастись приводят и только кой-когда старик их поить
приезжает. Они могут подолгу без воды быть. Берег тут — рукой подать. А
пошли верблюды за мной к избе потому, что подумали, что я их пить зову, они
свой срок знают. Старик сказал, что деревня недалеко и почта там: завтра
домой можно депешу послать.
Мамка
Через день я уж в деревне был и ждал, что будет из дому. Приехала мамка
и не ругала, а только все ревела: поглядит и в слезы. «Я, — говорит, — тебя
уж похоронила…» Ну, с отцом дома другой разговор был.